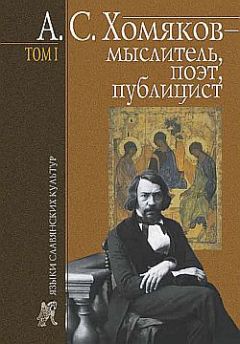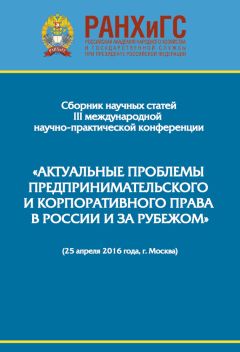Ознакомительная версия.
Познание тайны Христа «вверено было единству верных и их свободе, ибо закон Христов есть свобода. <…> Христос зримый – это была бы истина навязанная, неотразимая, а Богу угодно было, чтобы истина усвоилась свободно. Христос зримый – это была бы истина внешняя; а Богу угодно было, чтобы она стала для нас внутреннею, по благодати Сына, в ниспослании Духа Божия»[72]. Или, как говорит Хомяков, «Христианское же знание не есть дело разума, пытающего, но веры благодатной и живой»[73].
Именно «за то, что ты смиренна», Россия и была обращена в орудие Божьей воли: ей был дан исключительный, по мысли Хомякова, удел —
Хранить для мира до стоянье
Высоких жертв и чистых дел;
Хранить племен святое братство,
Любви живительный сосуд,
И веры пламенной богатство,
И правду и бескровный суд
1840, с. 66–67).
Преемственность прошлого и настоящего (увы, далеко не идеального, если судить по беспощадным строкам, изобличающим пороки русской жизни, например, в стихотворении «России», написанном в 1854 году), открывает перед Россией большие перспективы. Она способна сделать Россию и ее народ истинно свободными, ибо, по мысли Хомякова, «начало органической свободы заложено прежде всего в восточном Православии, а затем и в духе русского народа, в русском деревенском быте, русском складе души и отношении к жизни»[74]. «Тайну свободы, – пишет далее Бердяев, – ведает лишь сердце России, неискаженно хранящей истину Христовой Церкви, и она лишь может поведать эту тайну современному миру, подчинившемуся внешней необходимости»[75]. Ключ, скрывающийся в груди России, способен напоить все народы, томимые духовной жаждой.
<…> и все народы
Обняв любовию своей,
Скажи им таинство свободы,
Сиянье веры им пролей!
1840, с. 67).
Весь смысл соборности выражен этими строками. Вполне понятна тревога Хомякова о судьбе страны, ибо «быть орудьем Бога / Земным созданьям тяжело» («России», 1854, с. 122). «Единение и любовь», явленные в пришествии Христа – «царя смиренного», должны проповедоваться Россией. На этом зиждется твердая вера Хомякова в великую будущность России. Он воспевал ее прошлое и будущее, но не настоящее. Только преображенная Россия призвана, по его мысли, главенствовать среди славянских и иных народов как первая среди равных. Из своего наследия она должна тщательно отбирать все лучшее, что будет развивать и совершенствовать духовную и социальную жизнь во имя единения и торжества соборного начала в совокупной жизни. Об этом говорится и в одном из его последних стихотворений «Помнишь, по стезе нагорной…»:
Вскоре, вскоре в бранном споре
Закипит весь мир земной:
Чтоб страданьями – свободы
Покупалась благодать,
Чтоб готовились народы
Зову истины внимать;
Чтобы глас ее пророка
Мог проникнуть в дух людей,
Как глубоко луч с востока
Греет влажный тук полей.
М. Е. Крошнева
Категория соборности в творчестве Ивана Савина (на примере рассказа «Лимонадная будка»)
Актуальность современных филологических исследований связана с изменением представлений об отечественной словесности. Ученые не сомневаются в наличии христианского подтекста русской литературы и считают это явление «самоочевидной истиной», так как отечественная словесность «во все времена своего развития была глубоко укоренена в православии»[76]. Глубокая мысль, бытующая в классической литературе, играет важную роль в выражении философского национального мировоззрения. Категории соборности и воцерковленности – как сущность и качество русских философских концепций – находят яркое воплощение в ткани художественных произведений, включая памятники древнерусской письменности[77].
Начало философской мысли в России связано с именами славянофилов, яркими фигурами своего времени – А. С. Хомяковым и И. В. Киреевским. Характер зарождавшейся глубокомысленной науки определился тогда традиционной для России восточнославянской и греческой культурами: в своих концепциях славянофилы опирались на сочинения восточных отцов Церкви, «переводили и обрабатывали творения Иоанна Дамаскина, Дионисия Ареопагита, Филиппа Пустынника, включая их “Азбуковники”…»[78]. Ученые заложили прочные основы для дальнейшей систематизации христианского православного мировоззрения.
Страстные их оппоненты (западники) только способствовали оформлению главной идеи о соборности Церкви. При всех прогрессивных взглядах западнической концепции, славянофилы были близки к возможности познания бытия, отождествляющейся с нахождением «внутренней» и «непосредственной» «живой истины». «Мы сами встретили истину на полудороге, увлеченные тайною благодатию Божией», – читаем у Хомякова в трудах по богословию[79].
Заслуга философа состоит в том, что он смог сформулировать глубинную суть православной религии – соборность Церкви, понимаемую как «единство <…> органическое, живое начало которого есть божественная благодать взаимной любви»[80].
Интереснейшим образом категория соборности представлена в творчестве Ивана Савина, малоизвестного писателя и поэта начала ХХ века. В своих произведениях молодой эмигрант продолжает традиции русской реалистической литературы, воссоздает реальность духовного уровня мира и человека.
Герои Савина раскрывают подлинное бытие мира, доступное только соборному человеку, «звездному подарку Бога темной земле», – таковы Дроль, Миша, Николай и Ольга и др. Автор считает, что высшие истины открываются непосредственно и интуитивно только тому, кто просветлен любовью к себе, своему народу и земле: «И всех можно понять, только надо быть ласковым и бездомным. Бездомным потому, что только потеряв свой край, свои поля, начинаешь понимать, что многоглагольна и чудесами вспахана земля Божия» («Лимонадная будка»)[81]. Категория соборности в творчестве Савина выражается в нахождении себя «не в бессилии духовного одиночества, – по Хомякову, – а в силе <…> искреннего единения со своими братьями, со своим Спасителем»[82].
Главный герой рассказа «Лимонадная будка» равнодушно воспринимает внешнюю сторону своей жизни. Где жить? В эмиграции или в России? Чем питаться? Во что одеваться? Для него нет четких разграничений жизненного пространства. Он свободен от каких бы то ни было земных волнений и переживаний. «Приносил Миша несколько ящиков из-под чая для кровати и стола, большую консервную банку – он варил в ней овес, мерзлый картофель и шоколад, – связку книг, тетрадей и гитару с выцветшей лентой. На гитаре Миша играл с утра до ночи, играл до самозабвения, восторженно улыбаясь, блестя в полумраке синими каплями безумных глаз» (154–155). Его одежда только прикрывает тело: «Ноги-то <…> тряпками обмотаны, грудь в легкой курточке с дырой на левом локте» (156). Бытие странника выходит за границы привычного миропорядка. Его душа желает полета: «А вот хочется, чтобы эта будка поднялась в верх и полетела <…>. Около солнца, наверное, нет ветра» (158).
Герой Савина представляет образ юродивого в русской литературе. Он, как и изгои Н. С. Лескова, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. Н. Островского, Б. Пильняка, В. Иоффе, исключает себя из общественной жизни, преступает все возможные правила, не ходит в церковь. Миша отвергнут обществом, но избран организованным Космосом усмирить человеческую гордыню.
Однако Миша пришел в совершенно новый для него мир уже униженным и измученным человеком: он вынужден был покинуть Россию, в которой не был юродивым, а жил жизнью обычного православного христианина. Эмиграция и «аскетическое попрание тщеславия»[83] героя существенно усиливают смысловое содержание рассказа. Миша уже не из ряда «каликов перехожих <…> – нечто вроде пифий, народных праведников и прорицателей»[84], скорее всего, он – юродивый «по обстоятельствам». Герой не старается ничего предсказать, для него не важен опыт общения с людьми, да и жители города не вступают с ним в контакт, кроме детей, которые добродушно дразнят и любят его одновременно. Когда у Миши заканчивались деньги, он уходил на пристань грузить пароходы.
Несмотря на социальный аспект пребывания в обществе, герой Савина способен создать собственное мироздание. Отрешенность от мира фрю Густавсон и сестры сопровождается «внутренним» и «непосредственным» восприятием действительности. Миша сознательно «снижается», чтобы таким образом «подняться» на духовном пути, предать себя Господу. Он служит миру своеобразным способом-примером внутренней духовной силы. Все, чем он богат, обнаруживается в одном огромном «чувстве Бога»: «Миша развалился на ящиках и, блаженно улыбаясь, говорил кому-то – может быть, опять тому милому, кого в будке не было: “Нам все равно, да? Пусть там потоп из крови. Они не понимают, что ты такой огромный! И у меня в душе – звезда твоя. Пусть там – все! А здесь ходит Бог. Ступит – след ноги в цветах и в музыке…”» (157).
Ознакомительная версия.